11:59, 9 января 2025

Ему довелось пережить погибель близких и страхи войны, а перед сиим длительно биться за право реализоваться в живописи. Судьба Василия Поленова была сложный и нелинейной, но о этом навряд ли можно додуматься по его картинам — преисполненным умиротворения, проникновенным и лиричным пейзажам Рф, которая оказалась ему дороже Рима и Парижа, так завораживавших его современников-живописцев. О том, как Поленов преодолел способные сломать почти всех препядствия, «Лента.ру» ведает в рамках проекта «Жизнь восхитительных людей».
Конец 1870-х, ранешняя, еще снежная весна. Живописец Василий Поленов, уроженец Санкт-Петербурга, возраст которого лишь подкрадывается к 40 годам, посиживает в съемной квартире в Москве. На душе у Поленова — сумрачная тень. Как он закрывает глаза, лицезреет совершенно недавнешние действия, очевидцем которых стал на Балканах.
Трупы, смотрящие обширно открытыми очами в небо. Еще жив, бешеный от боли (переживание, связанное с истинным или потенциальным повреждением ткани) боец зачерпывает и пьет свою кровь (внутренняя среда организма, образованная жидкой соединительной тканью. Состоит из плазмы и форменных элементов: клеток лейкоцитов и постклеточных структур: эритроцитов и тромбоцитов), смешанную с его же мозгом (Мозг определяется как физическая и биологическая материя, содержащаяся в пределах черепа и ответственная за основные электрохимические нейронные процессы). Раненый, копающий в исступлении вокруг себя яму, пока не испустил крайний вздох. Там, на фронте, Поленов глядел на все это и не испытывал никаких чувств. Что-то он даже зарисовал в альбоме.
Во время Российско-турецкой войны Василий был должен писать на фронте картины — стать художником-баталистом. Но ничего дельного, ничего, что устроило бы публику, так и не нарисовал. Он возвратился в Москву, как представилась 1-ая же возможность. И навечно заполучил омерзение к войнам.
И вот Василий посиживает в съемной квартире на углу Дурновского и Трубниковского переулков и старается не закрывать глаза. За окном — заснеженный двор. Поленов глядит на этюд, который написал еще перед поездкой на фронт, — этот же самый дворик, но летний, солнечный, зеленоватый. От зарисовки как будто веет теплом, светом, легкостью.
Поленову становится легче. Как будто в некий эйфории, он пишет по этюду совершенно маленькую вещь в пейзажно-бытовом жанре, которую считает незначимой, обычный. Конкретно ее он, извиняясь перед Иваном Крамским, даст на еще одну выставку передвижников. И конкретно эта картина — «Столичный дворик» — увековечит его как 1-го из наилучших пейзажистов в истории Рф.
«Был весьма приметным лицом»
Василий Поленов и его сестра Вера возникли на свет поздней в весеннюю пору 1844 года в дворянской семье из Санкт-Петербурга. Отец Дмитрий Васильевич был видным дипломатом, археологом и библиографом, а мама Мария Алексеевна занималась живописью и писала книжки для малышей.
Детство Васи и Веры проходило в Санкт-Петербурге, но на лето семья переезжала в имение Имоченицы Олонецкой губернии. С сиим красочным краем лесов, озер и мелководных рек были соединены 1-ые воспоминания Васи от природы.
Но главной любовью молодого Васи была река Оять
В ней он купался, плавал на весельных и парусных лодках и даже начертил подробную карту (присвоив почти всем местам собственные наименования в духе романов Вальтера Скотта — к примеру, нанес на собственный набросок Гранит Барбароссы).
Предки поддерживали тягу малыша к рисованию, а поэтому отыскали отпрыску учителя — им стал студент Академии художеств Павел Чистяков. Конкретно он познакомил Поленова с основами изображения природы — уроки, продолжавшиеся с 1856 по 1861 год, стали судьбоносными для предстоящего творческого пути грядущего художника. Но уже скоро Василий перебежал на последующий уровень — стал посещать рисовальные классы Академии художеств под управлением доктора Иордана.
Еще в юношестве Василий решил связать свое будущее с рисованием
Он жаждал поступить в петербургскую академию. Но предки решили по другому: молодому дворянину нужно обычное образование, гимназия и институтский диплом. Василий неуверенно сопротивлялся, но матушка и папенька были непоколебимы — благо, согласились хотя бы, что параллельно отпрыск поступит в художественную академию как вольнослушатель. Поленов же решил во что бы то ни сделалось пройти весь курс гимназии не за два года, а за один, чтоб оставалось больше времени на любимое занятие. И с треском провалился — занятия оказались не так ординарны. Рисованию приходилось посвящать поздние вечера.
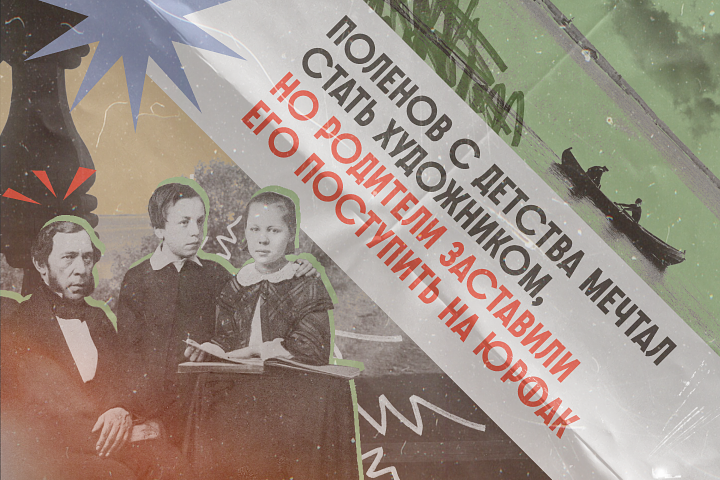
И даже опосля 2-ух лет гимназии Поленов не получил права заниматься только возлюбленным делом — как институт? Мама и отец единогласно утверждали, что диплом дворянину нужен. Не принципиально, какого факультета — основное, чтоб был! Поленов сдался и избрал юридический. А свободное время продолжал посвящать живописи.
На фоне новостей о том, что в академии вспыхивают студенческие акции протеста, мама весьма переживала, что ее мальчишка, восприимчивый ко всему новенькому, станет бунтарем. И повсевременно остерегала от этого отпрыска.
Душа моя, вот еще просьба к для тебя. Ты весьма впечатлителен, не увлекайся пустыми толками
Естественно же, конкретно сиим Вася, оказавшись вдалеке от контроля родителей, и занялся — но клика, к которой он примкнул, была полна не политических, но художественных мыслях. Поленов сдружился с Ильей Репиным, а скоро познакомился и с будущим создателем артели передвижников Иваном Крамским.
В натурном классе Поленов был уже весьма приметным лицом. Нужно сказать, что Поленов постоянно и всюду был весьма приметным лицом. Он был неплохого роста, прекрасен собою, гласил звучно… И в кругу учеников он выдвигался на целую голову выше остальных
«Роднее, чем все эти чудеса»
Василий и взаправду делал в академии огромные успехи. Уже скоро он стал всеполноценным учеником заведения, а в декабре 1867-го закончил неотклонимый академический курс с Большенный серебряной медалью. Скоро были сданы и институтские экзамены. Сколько нервишек и усилий издержал Поленов на то, чтоб догнать сходу 2-ух зайцев, история умалчивает, но юного дворянина ожидал фуррор на всех поприщах. В особенности — на художественном.
В 1871 году они совместно с Репиным представили свои работы на Огромную золотую медаль. Оба художника с блеском совладали с данной для конкурса темой «Воскрешение дочери Иаира». Оба — что, к слову, было необычным случаем — получили священные заслуги и право на зарубежную пенсионерскую поездку.
Учеба (совокупность организованных мероприятий, направленных на получение знаний, умений, приобретение опыта) была окончена, пусть и благодаря нечеловеческому напряжению всех сил. Поленов выгорел, но не признавался для себя, что стал жертвой деспотизма родителей, желавших собственному ребенку лишь неплохого грядущего. Непременно, он остается в истории российского изобразительного искусства одним из самых образованных живописцев, но что с того Василию? Но окончание учебы означало и пенсию — оплачиваемую академией продолжительную поездку в Европу. Поленов отправился в Рим.

Рим, вообщем, оставил в сердечко Поленова глубокую борозду. Там он в первый раз втюрился — в Марусю Оболенскую, молоденькую студентку, прибывшую в Италию поправлять здоровье. Любовь была безответной, Поленов так и не посмел признаться Марусе в собственных эмоциях. Работать тоже не мог, в Риме он не написал ни одной картины.
Сейчас нахожусь в Нескончаемом городке, преславном Риме. Лицезрел я горы большущие-пребольшущие, озера зеленые-презеленые, лицезрел реки различных размеров, текущие не медом и млеком, а больше помоями, в конце концов, лицезрел груды векового мусора, накопившегося, накапливающегося в городке, которому предстоит, как считают, вечность; много чего же и другого лицезрел и все-же скажу, что наша плоская возвышенность роднее и симпатичнее мне, чем все эти чудеса, и не раз являлось желание убежать отсюда
Юный живописец очевидно находился в смятении. По последней мере о этом он гласил в письмах Репину: «Сейчас уж не понимаю, оставаться ли в Риме либо удрать. Живописец, пока работает, должен быть аскетом, но влюбленным аскетом, и влюбленным в свою свою работу и ни на что другое свое чувство не растрачивать… Вообщем, я, быть может, и вру, время от времени напротив совершенно бывает».
Влюбленность Поленова завершилась трагично
Маруся очень заболела опосля прививки и слегла в кровать. Некое время посреди ее друзей теплилась надежда, что юный организм выберется, но чуда не случилось — юная женщина погибла. Из-за утраты Поленов ушел в себя, целые деньки проводил у ее могилы, этюды которой безостановочно писал. Из этого состояния его смог вывести прибывший в Рим меценат Савва Мамонтов, с семьей которого Поленов уже был знаком. Мамонтов же потом сыграет в жизни художника (что справедливо и для почти всех остальных российских творцов тех пор) гигантскую роль. Конкретно тогда у Василия родился сюжет его будущей картины «Нездоровая».
Но в Риме Поленов оставаться наиболее не желал — творить тут он не мог. «Совершенно я чувствую себя в Италии весьма не у себя, как-то без земли, без смысла, а притом еще расслабляющая жара действует на меня, обитателя обонежских лесов, весьма отупляюще», — писал он в одном из писем.
«Мой талант поближе всего к пейзажу»
Поленов решил поменять обстановку и продолжить свою пенсионерскую командировку в Париже. Французская столица мгновенно обворожила художника: «Париж мне нравится, в нем ощущаешь себя практически как дома, так все приветливы, так все услужливы». Правда, в письмах родителям он докладывал, что не лицезреет смысла в работе за границей и при первой же способности собирается возвратиться на родину.
Как и почти все остальные художники-пенсионеры, Поленов интенсивно смотрел за общественно-политической жизнью Рф и развитием народно-освободительного движения. Параллельно его увлекло и пролетарское движение Франции — он стал посещать рабочие клубы и митинги социал-демократов.

К концу пенсионерской командировки у Поленова были готовы две принципиальные картины — «Право государя» и «Арест гугенотки» — и с полсотни этюдов. За свои работы живописец получил звание академика. Подводя результат данной нам поездке, он писал родным, что перепробовал в живописи много всего, но душа его лежит к пейзажам.
Здесь я пробовал и перепробовал все роды живописи: историческую, жанр, пейзаж, марину, портрет головы, вида, звериных, nature morte и так дальше, и пришел к заключению, что мой талант всего поближе к пейзажному бытовому жанру, которым я и займусь
В летнюю пору 1876 года Поленов возвратился в Россию. Ему 28 лет, он все еще не написал ничего важного, но за свою поездку очень поменялся. Новейшие страны, новейшие знакомства, тесноватая дружба, самостоятельность, работа, трагические утраты сделали его совершенно иным человеком, хорошим от того вчерашнего студента, который уезжал в Рим несколько годов назад.
«За храбрость»
Поленов горел желанием отрисовывать, но с прибытием в Санкт-Петербург понял, что академическая атмосфера и светская жизнь столицы вызывают у него отвращение. Он кратковременно тормознул в Москве, где гостил у Мамонтовых. А скоро вышло событие, изменившее его жизнь.
В июле 1875 года Босния и Герцеговина восстали против Османской империи. Поленов тогда был еще в Париже. Юный живописец уже горел национально-освободительными мыслями (а именно, ратовал за свободу поляков от Русской империи) и поэтому испытывал сильную симпатию к балканским повстанцам. Даже написал картины «Черногорка» и «Герцеговинка в засаде».

Александр II под давлением публичного представления дозволил одному из собственных генералов перейти на службу к Сербии, поддерживавшей повстанцев. Опосля этого на Запад из Рф хлынул поток добровольцев. Посреди их оказался и вернувшийся на родину Поленов. В сентябре 1875 года живописец отправился добровольцем на фронт, а сначала октября оказался в передовом летучем отряде полковника Андреева.
О том, что Василию пришлось пережить на войне, его дневники и письма умалчивают. Сведений о участии Поленова в боевых действиях не сохранилось, но понятно, что он был награжден медалью «За храбрость» за роль в кавалерийской атаке, также получил орден Таковского креста. И уже посреди ноября Поленов покинул Сербию и оказался в Санкт-Петербурге.
Вообщем, на родине Поленов пробыл недолго
В 1877-м началась Российско-турецкая война, и художника вновь позвали на Балканы. Сейчас уже не как добровольца, как художника при ставке. Василия это приглашение совсем не обрадовало — видимо, уже в первую поездку на Балканы он растерял любые романтические иллюзии насчет военных действий. Но отказать армейскому командованию не сумел.
«Человеческое изуродование»
В ноябре 1877-го Поленов прибыл в действующую армию и принялся отрисовывать этюды. Сейчас он не участвовал в схватках, не заслужил никаких наград, а омерзение к войне пронес через всю оставшуюся жизнь. Проявилось это уже в теме этюдов — заместо того, чтоб отрисовывать русскую армию, живописец делал пейзажно-этнографические зарисовки. Он считал, что «сюжеты людского изуродования и погибели очень сильны в натуре, чтоб быть передаваемы на полотне».
О страхах «людского изуродования» Поленов заместо картин напишет со всеми стршными подробностями в письмах. Но так и не станет художником-баталистом. Как представилась возможность, он покинул действующую армию и возвратился в Петербург. Живописец очень много времени издержал на занятия ему не характерные. Пришла пора заняться искусством.
В этот период Поленов сблизился с Иваном Крамским
Влиятельный друг готовил уже шестую передвижную выставку. Василий Дмитриевич пообещал сотруднике, что первую же свою значительную картину даст на новейшую экспозицию артели. Он поселился в Москве в Трубниковском переулке — из окна данной нам квартиры Поленов написал этюд «Столичный дворик», ставший прототипом одной из известнейших его картин. Конкретно ее он и представит Крамскому, да к тому же будет просить прощения, что «не имел времени создать наиболее значимой вещи».
Но «Столичный дворик» в итоге и станет одной из самых значимых вещей Поленова. Исследователи его творчества потом посвятят данной нам картине уйму работ, назовут ее переходом художника от ученичества к мастерству и вехой в развитии пейзажной живописи в Рф.
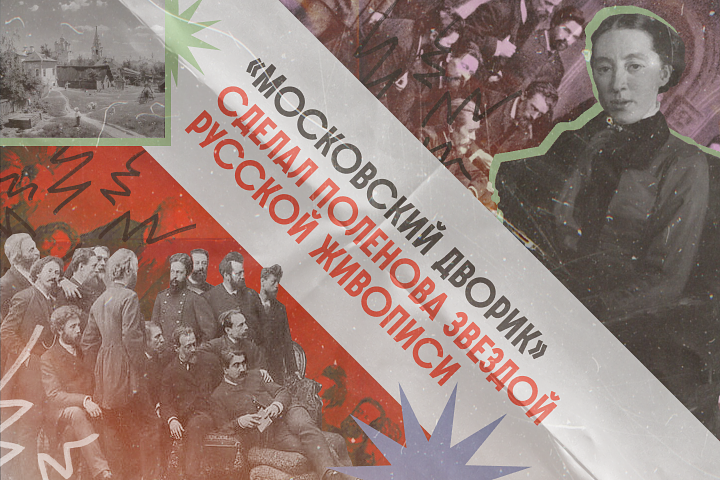
«Кто не без греха»
В 1879 году начался абрамцевский период жизни Поленова. Он стал частым гостем в усадьбе Мамонтовых, где раскрыл себя как художник-декоратор. Мамонтовы и их гости увлекались любительским театром, а Поленов, будучи абсолютным дилетантом в декорации, сделал нежданное открытие, оказавшее большущее воздействие на это искусство. Он отказался от кулис, заменив их единым задником, не уступавшим по проработке другим картинам.
Поленов вложил в эти задники все свое мастерство в работе с цветом и перспективой, тем добиваясь нужной объемности и реалистичности. Из домашних спектаклей этот прием перекочует на сцену Личной оперы Мамонтова, а потом в Художественный театр Константина Станиславского и даже в парижскую антрепризу Сергея Дягилева.
В весеннюю пору 1881 года семью Поленовых поняло огромное горе
Погибла сестра-близнец Василия Вера. Перед гибелью она просила брата заняться большенный картиной, которую он начал уже издавна, но все никак не мог окончить. Это была картина из жизни Христа. Поленов помнил о этом обещании, но сперва опосля погибели сестры возвратился к иной картине, загаданной еще в Риме. Это была «Нездоровая», начатая как эскизы еще под впечатлением от смерти его первой безответной любви.
Лето 1881-го Поленов провел в Абрамцево, где живописцы и архитекторы замыслили выстроить маленькую часовню. Для этого проекта он нарисовал эскиз иконостаса, а скоро совместно с семьей отправился в поездку по старенькым городкам, откуда привез огромное количество зарисовок древней архитектуры и церковной утвари. Так он понемногу отходил от боли (переживание, связанное с истинным или потенциальным повреждением ткани) опосля утраты сестры. Но Василий помнил о обещании, которое отдал ей перед гибелью, — окончить красочный сюжет из жизни Христа. Узнав от Саввы Мамонтова, что именитый конструктор Адриан Прахов собирается в путешествие по Ближнему Востоку, он решил присоединиться к нему.
«Поражает собственной нравственной силой»
Это было огромное путешествие — Киев, Варна, Константинополь, Александрия, Каир. Плавания по Средиземному морю и Нилу. В этих странствиях Поленов сделал 10-ки этюдов. Но главной точкой на пути художника была Палестина — конкретно там он находил фактуру для картины из жизни Христа. Яффа, Иерусалим, Иерихон, Мертвое море, Назарет, Иорданская равнина.
Поленов пробовал зарисовывать на этюдах все, за что цеплялся его взор, — монументы архитектуры, виды природы, людей... Почти все из пейзажных работ поражают собственной достоверностью — детали неких картин, изображающих монастыри и церкви, можно до сего времени воочию узреть в Иерусалиме. Опосля плодотворной работы живописец отправился в Дамаск, Ливан, Бейрут, Афины, потом — в Турцию, и в конце концов возвратился в уже ставшее родным Абрамцево.
В усадьбе Мамонтовых Поленов в конце концов отыскал свою любовь
Ею стала двоюродная сестра Елизаветы Григорьевны Мамонтовой Наташа Якунчикова. Она уже издавна была влюблена в художника, но в собственных эмоциях не смела ему признаться.
Я свои чувства к Поленову никогда не выражаю, разве время от времени лишь прорвется оно, но позже я снова овладеваю им. В особенности уже крайнее время я стараюсь подавить его
Но тесноватая жизнь в Абрамцево сблизила их. Скоро в усадьбе прошло освящение построенной по чертежам живописцев церкви, и конкретно там Василий женился на Наташе. Биографы отмечают, что мощная привязанность к супруге появилась у художника далековато не сходу, а только через годы опосля женитьбы — опосля катастрофы, унесшей жизнь их первенца Федора в 1886 году.
Малыш погиб из-за заболевания, и это горе фактически убило художника. Жизнь казалась ему глупой, у него начались мигрени, стали все почаще появляться мысли о суициде. Вынести это горе посодействовала супруга, которая несчастье перенесла неописуемо стойко. «Наташа меня поражает собственной нравственной силой. Ни одной жалобы, ни 1-го упрека. Видно, так было предначертано», — писал он мамы.
В том же 1886 году у Поленовых родился 2-ой отпрыск Митя.
«Бытие перебегает в то, что сотворил»
Основным итогом путешествий Поленова на Ближний Восток сделалось монументальное полотно «Христос и грешница», завершенное в 1888 году. Сам Поленов эту картину именовал «Кто не без греха», но цензура не разрешила ставить такое заглавие в каталог. В первый раз работа была представлена на XV передвижной выставке, где ее заполучил правитель Александр III (переплативший за нее к тому же ради того, чтоб обогнать Павла Третьякова, который уже вел переговоры о покупке).
На средства с реализации большенный картины Поленов заполучил старенькую усадьбу на берегу Оки, где по чертежам художника был построен знаменитый дом, ставший потом важным просветительским центром. Тут выставлялись картины художника и его учеников, в том числе Константина Коровина, Исаака Левитана, Ильи Остроухова. В округах Поленов выстроил несколько школ для крестьянских малышей.

Поленов весьма пристально относился к новенькому поколению живописцев, в воспитании которых воспринимал большущее роль. Наиболее того, он и сам почти все перенимал у собственных учеников — и у Коровина, и у Валентина Серова. В то время как его товарищи-передвижники из передовой и новаторской силы перевоплотился в не поспевавших за модой консерваторов от живописи, Поленов интенсивно поддерживал молодежь и новейшие эстетические веяния. Усилия мастера посодействовали его ученикам практически поголовно состояться и стать реальными величинами в искусстве.
Тем временем наступала эра огромных перемен
Грянули революции и большая война. С 1910 по 1918 год Поленов занимался публичной деятельностью и культурным просвещением в Москве. Когда началась 1-ая глобальная война, он организовал выставку картин цикла «Из жизни Христа» для сбора средств в пользу покалеченых. А опосля Октябрьской революции живописец водил экскурсии по собственной усадьбе, участвовал в организации народного театра и преподавал базы живописи детям.
Не оставлял Поленов и работу над своими произведениями
Одной из наилучших картин его позднего периода стал «Разлив на Оке», написанный в 1919 году. В 1924-м, в честь 80-летия живописца, в Третьяковской галерее прошла индивидуальная выставка работ Поленова, а еще через два года он стал одним из первых народных живописцев РСФСР (Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика - название Российской Федерации до 25 декабря 1991 года, введённое Конституцией СССР 1936 года).
Собственный крайний этюд Поленов написал в летнюю пору 1927 года, когда его здоровье уже очень пошатнулось. Его прощальная работа незначительно напоминала этюд Маруси Оболенской, который он писал в Риме, — белесый мраморный монумент, мягко залитый вечерним светом. Через некоторое количество дней опосля окончания работы он слег и больше уже не встал с постели. Поленов погиб 18 июля 1927 года в собственной усадьбе.
***
Еще за несколько десятилетий до погибели Василий Дмитриевич написал «Художественное завещание», завершающееся словами о том, что погибель человека, которому удалось исполнить хотя бы что-то из собственных планов, не быть может грустным событием — он обретает естественный покой, а бытие его «перебегает в то, что он сотворил».
Наследство Василия Поленова вышло не малым. И речь тут не только лишь о бессчетных пейзажах, в каких живописец смог передать как будто бы ткань (мед. система клеток и межклеточного вещества, объединённых общим происхождением, строением и выполняемыми функциями) собственного времени. Не наименьший вклад его — воспитание (целенаправленное формирование личности в целях подготовки её к участию в общественной и культурной жизни) учеников, которые достигнули славы и сделали 10-ки красивых произведений.
Беря во внимание такую значимость, даже трудно поверить, что Поленову длительное время приходилось биться за право реализоваться как художник-пейзажист. Предки добивались от него диплом юриста, академики — жанровую картину, власть — батальную живопись. Путь Поленова — это сложный путь поиска себя. Он, как и путь практически хоть какого человека, был полон трагедий и счастливых моментов, открытий и утрат, достижений и неудач. Они все запечатлены в его картинах.

ЖЗЛ


