
Они не только лишь меняли роль дамы в обществе сначала ХХ века — они меняли мир вокруг себя, само устройство мироздания, делая его ярче, разнообразнее, увлекательнее. При всем этом нередко сами находились в трудной актуальной ситуации, поддерживая на плаву деток и ушедших в депрессию мужей. Таковых, как они, называли «флэпперы», другими словами те, кто хлопает крылышками, порхает. В то время как за данной нам видимой легкостью стоял гиганский труд и неописуемое напряжение сил. С разрешения издательства «Лайвбук» «Лента.ру» публикует фрагмент книжки журналиста Джудит Макрелл «Флэпперы».
Тамара
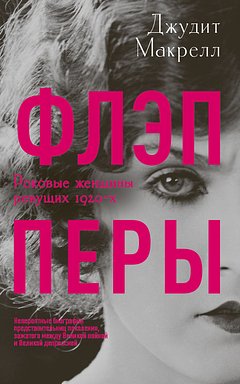
В 1920 году Париж ворачивал собственный довоенный статус «городка света». В нем опять звучали джазовые ритмы, витали новейшие идеи, шумели бары и кафе. Этот Париж был совершенно не похож на тот, куда 2-мя годами ранее приехала Тамара Лемпицка. В летнюю пору 1918 года витрины магазинов и кафе были заколочены для защиты от германских снарядов, пища выдавалась по талонам, парижане жили в ужасе и утомились от войны.
Никто не горел желанием помогать четверти миллиона польских и российских беженцев, которые хлынули в Париж, спасаясь от войны и революции
Посреди их была и Тамара. Перед отъездом из Рф она прихватила с собой несколько драгоценных украшений. Но рынок оказался переполнен камнями и родовыми драгоценностями беженцев; пища, жилище и уголь стоили недешево, и средства от реализации украшений стремительно иссякли.
Всего за 18 месяцев ранее жизнь казалась Тамаре бездонной чашей.
Она плясала всю ночь (то есть темное время суток) и пила шампанское, как воду. Сейчас же им с супругом Тадеушем и дочерью Кизеттой приходилось ютиться в крохотной гостиничной комнатушке, где не было ничего, не считая кровати, детской кровати и раковины.
Тамара позже еще длительно ее вспоминала.
Мы все мыли в данной нам раковине — и бедного малыша, и овощи
Раковина символизировала все, что она растеряла: старенькую квартиру в Санкт-Петербурге и все прекрасные вещи, что остались там, — портьеры, серебро, картины, турецкие ковры.
Памятуя о квартире, Тамара ощущала себя злосчастной, ведь на данный момент в ее бессчетных комнатах наверное расположили промышленных рабочих, сокровища растащили бойцы, а элегантную обстановку испоганили грубые голоса и грязные башмаки. Но на данный момент перед Тамарой стояла куда наиболее животрепещущая неувязка — ее супруг впал в апатию (то есть безучастного отношения к окружающим событиям) и не выходил из комнаты. Рядом с ним на полу валялась бутылка водки, а его прекрасное лицо исказило отчаяние.
Когда они познакомились, Тадеуш был беззаботным, уверенным внутри себя плейбоем. Сейчас он стал слабеньким, ворчливым и отмахивался от ее просьб отыскать работу; повелел ей пойти и попросить средств у родственников — тети и дяди и ее мамы Мальвины, которая тоже не так давно поселилась в Париже.
Всю жизнь Тадеуш прожил с чувством, что все ему должны, и сейчас это чувство его парализовало. В Париже было много таковых. Коко Шанель гласила, что эти некогда привилегированные изгнанники «все схожие; смотрятся потрясающе, но за наружностью нет ничего... они напиваются, чтоб унять ужас». Работать такие, как Тадеуш, буквально не собирались. Дядя Тамары Морис Штифтер, прошлый директор русского филиала Лионского кредитного банка в Санкт-Петербурге, опосля революции охотно согласился на наиболее низкую должность в парижском филиале и предложил Тадеушу пространство в том же банке. Но Тадеуш, отпрыск аристократа и помещика, не мог вынудить себя стать обычным банковским служащим.
К концу 1919 года Тамара продала все свои драгоценности, и хотя ее родственники никогда не дозволили бы, чтоб они с Кизеттой голодовали, ее жизнь казалась ей нестерпимо убогой. Тамара с завистью оглядывалась на юных парижанок, гулявших под руку по улице; они курили сигареты, у их все было впереди. Ее собственные будни стали мучительно прогнозируемыми: она присматривала за Кизеттой, готовила обеды, ей некуда было наряжаться, не считая как на редчайшие приемы у тети с дядей. Ссоры с Тадеушем не прекращались. Чем посильнее она наседала на супруга, тем больше он сопротивлялся. Нередко дело заканчивалось рукоприкладством, и, когда Тамара прогуливалась к родственникам, ей приходилось запудривать синяки на руках и шейке либо прикрывать их бусами и воротником пиджака. Ей чудилось унизительным признаваться, что ее брак трещит по швам, но в один прекрасный момент она переступила гордость и все поведала младшей сестре Адрианне.
«У нас нет средств... и он меня лупит», — рыдала Тамара.
Она возлагала надежды, что сестра ей пособолезнует, но этого не случилось. Бегство в Париж принесло Адрианне давно ожидаемую свободу и открыло ей мир, в каком умные и бойкие дамы могли сами достигать карьерных высот. Опосля окончания войны она поступила в архитектурное училище и подразумевала стать архитектором. Когда Тамара стала сетовать на свои несчастья — бесполезного супруга и утрату прежней удобной жизни, — Адрианна резко осадила сестру и напомнила, что есть остальные варианты. Тамара с юношества проявляла художественные возможности и обучалась живописи в Рф и за границей; пускай Тадеуш оказался неспособен их обеспечить, она полностью была в состоянии сделать это сама.
Пройдет несколько 10-ов лет, а Тамара будет вспоминать разговор с сестрой как, тот момент озарения, когда она решила стать проф художницей. Во всех интервью и в дискуссиях с дочерью Кизеттой она утверждала, что, излив душу Адрианне, здесь же пошла и купила плотную белоснежную бумагу и соболиные кисти, которыми написала свою первую картину. Она гласила, что у нее не было ничего, не считая Божьего дара, и она преодолела бедственное положение только своими силами.
<...>

Тем не наименее ее заслуги были воистину необычными. Через 5 лет, окончив обучение (педагогический процесс, в результате которого учащиеся под руководством учителя овладевают знаниями, умениями и навыками), Тамара уже была известной художницей и брала за портрет 50 тыщ франков. На один портрет уходило около 3-х недель. Тогда это были отличные средства — за роль в «Негритянском ревю» Жозефине Бейкер платили около 5 тыщ франков, а поэт из Гарлема Лэнгстон Хьюз, работавший привратником в ночном клубе на Монмартре, получал всего 5 франков за ночь (то есть темное время суток), стол и чаевые. Тамара также обрела публичность: о ней писали в колонках сплетен, фотографировали для журналов. На самой известной собственной картине «Автопортрет» она изобразила себя архетипичной гламурной красоткой 1920-х годов: она посиживает за рулем ярко-зеленого «бугатти», на губках светится красноватая помада, отливающая железным блеском, платиновые кудряшки выбиваются из-под кожаного авто шлема. Она нарисовала себя хладнокровной, резвой, шикарной — иконой десятилетия. Депрессия, омрачившая ее 1-ые 18 месяцев в Париже, издавна развеялась, и к Тамаре возвратилась ее прежняя вера в себя, которую в ней взращивали с юношества.
<...>

Но во всех историях, настоящих и придуманных, она постоянно вспоминала детство как идиллическое время. Ее дед Бертран Деклер был богат и дозволял собственной супруге Клементине и дочери Мальвине баловать всех домашних. Пышноватые ужины и празднества, одежка из самого Парижа, наилучшие учителя — все детки купались в роскоши, но самой балованной была Тамара: скупая, любившая всеми помыкать малая фантазерка.
<...>
Тамара никак не могла взять в толк, как ее супруг, самонадеянный плейбой, мог перевоплотиться в этого противного нытика. Она скучала по мужчине, за которого вышла, а так как не различалась особенной глубиной эмпатии, его жалость к для себя казалась ей недостойной. Всекрете она начала его презирать, и даже в Париже, где ее тоже достигнула депрессия, никак не сопереживала его страданиям. Конкретно потому, обнаружив внутри себя решимость поменять свою жизнь, Тамара взяла ситуацию в свои руки и даже не пошевелила мозгами советоваться с Тадеушем. Решив стать проф художницей, она с головой ушла в этот проект, будучи уверенной, что ее амбиции сейчас важнее, чем его.
В следующие годы эта свирепая целеустремленность сослужила ей неплохую службу, и ее судьба быстро пошла в гору. С иной стороны, этого бы не случилось, не будь она в Париже, где в мире искусства было принято поддерживать честолюбивых дам. Хотя большая часть французских учебных заведений только не так давно начали принимать дам и почти все художницы нуждались в наставничестве и поддержке парней, тех, кто достигнул фуррора и известности, тоже было много. К примеру, Сюзанна Валадон, ставшая первой дамой, принятой в Национальное общество роскошных искусств в 1894 году, и фовистка Эмили Шарми, о которой гласили, что она смотрится как дама, но отрисовывают как мужик.

Нина Хэмнетт
Эти художницы стали колоритными ролевыми моделями и завлекали в Париж почти всех дам. В 1914 году в Париже обучалась, а позже часто туда ворачивалась Нина Хэмнетт; Гвен Джон, даровитая тихоня, сестра Огастеса Джона и любовница Родена, достигнула запоздалого признания в парижских салонах. Писательница Джин Рис, приезжавшая в Париж сначала 1920-х, отмечала, что в Париже «много женщин», у каких лишь и дискуссий что о будущей художественной карьере. Что до Тамары, количество принципиальных дам в Париже побуждало ее и мотивировало. Ее постоянно стимулировала конкурентность.
В конце 1919 года она записалась в Академию Рансона — личную школу, которой управляла вдова фовиста Поля Рансона. Поручив Кизетту заботам мамы, жившей в пансионе недалеко, Тамара практически весь денек посвящала новенькому занятию. По окончании уроков прогуливалась в Лувр, делала наброски и отрисовывала копии картин. Дома продолжала отрисовывать в альбоме, игнорируя боль (физическое или эмоциональное страдание, мучительное или неприятное ощущение) в спине и напряжение в очах.
Она улучшала технику рисунка, работая упрямо, как в тринадцать лет, когда писала портрет Адрианны. Выкуривала три пачки сигарет в денек, чтоб мозг (центральный отдел нервной системы животных, обычно расположенный в головном отделе тела и представляющий собой компактное скопление нервных клеток и их отростков) не спал, а позже, чтоб заснуть, воспринимала огромные дозы валерианы.
Меньше чем через год опосля поступления в академию Тамара решила, что 1-ый шаг ее обучения подошел к концу. Учителя больше не могли ничему ее обучить; амбиции лупили через край, и она ощущала, что готова работать над своим стилем. Ей совершенно не нравились авангардные полотна, что выставлялись в левобережных галереях; грязные землистые тона последователей Сезанна, интроспективные абстракции Кандинского, сумасшедший нигилизм дадаистов — все это в одинаковой мере оскорбляло ее художественное чувство. Позднее она писала: «Искусство скатилось в банальность; у меня это вызывает только омерзение». Большая часть современных живописцев казались ей просто неучами, она считала, что они даже не умели отрисовывать, и, хотя вымученно восторгалась фуррором Пикассо, считала, что ему просто подфартило, поэтому что его искусство «воплощало новизну разрушения». Она как и раньше считала эталонами для подражания мастеров эры Возрождения, которых ей открыла Клементина:
«Я стремилась к совершенству техники и ремесла, простоте и отличному вкусу... сияющим броским краскам».

Хотя в искусстве Тамара тяготела в сторону консерватизма, ее, как сороку, притягивали смелые и наиболее оживленные нюансы модернизма. Она разработала свою цветовую палитру, отличавшуюся практически ненатуральной лаковой яркостью; герои ее картин владели физической крепостью в духе Леже либо монументальных оголенных фигур Пикассо.
А посильнее всего на ее ранешние работы воздействовали взрывная энергия и оскольчатые формы кубизма, в особенности творчество Андре Лота.
Несколько месяцев она брала у Лота личные уроки: ей нравилось, как он употреблял кубизм в моде и декоративном искусстве. Лот отрисовывал симпатичных людей в элегантном баре либо ночном клубе и не гнушался эротических полотен с изображением оголенных моделей. Современники критиковали его за излишнюю «мягкость» и называли его работы «салонным» кубизмом, но для Тамары он стал прототипом, который она смогла повторить и затмить*.
Своим основным жанром она избрала портрет и отрисовывала прекрасных, харизматичных и богатых людей. Прирожденное чувство стиля и владение техниками академической живописи привели к формированию стиля, нашедшего глубочайший отклик у коммерческого клиента. В 1922 году, всего опосля 2-ух неполных лет обучения живописи, три ее работы приняли на Осенний салон — одну из самых посещаемых парижских выставок новейшего искусства.
Ее заявку поддержали друзья из приемной комиссии: педагог Академии Рансона Морис Дени и сестра Тамары Адрианна, которая успела зарекомендовать себя как профессиональный конструктор и достигнула впечатляющих фурроров. Но Тамара все равно считала, что ее взяли на салон только благодаря таланту.

Покорив первую верхушку на пути к известности и богатству, она пообещала для себя брать новейший браслет с бриллиантами за любые две проданные картины и продолжать созодать это до того времени, пока рука не будет унизана браслетами от кисти до локтя. <...>
<...>
<...> Сначала 1920-х годов Париж опять стал коммерческим центром современной культуры. До 1914 года он был столицей «прелестной эры»: тут творили символисты и декаденты, постимпрессионисты и кубисты, тут находилась репетиционная база «Российского балета» Дягилева. Сейчас он стал городом негритянского джаза, дадаистов и первых сюрреалистов, авангардного балета и интернациональных поэтических альманахов. Южноамериканский фондовый рынок переживал расцвет, европейская экономика понемногу восстанавливалась опосля войны, и искусство сделалось вожделенным продуктом. Живопись была в моде, служила доказательством статуса и числилась неплохим финансовложением. Картины узнаваемых живописцев вроде Пикассо дорожали с каждым деньком; стоимость самых коммерческих его работ доходила до нескольких сотен тыщ франков, а посреди зарубежных покупателей разыгрывалась острая конкурентность за очередные новейшие таланты.
Единственный собиратель мог скупить всю дебютную выставку многообещающего художника, а новенькая порода арт-туристов охотно платила за экскурсии по мастерским и даже кафе и барам, где можно было повстречать престижных живописцев.

Джазовая певица Бриктоп
Джазовая певица Бриктоп вспоминала, что посреди 1920-х годов в Париже существовал «красивый симбиоз» культуры и коммерции. В городке проживало довольно много бедных деятелей искусства, которые желали писать, отрисовывать и петь, но также было «много людей с средствами, которые ничего не достигнули в искусстве», и «богатые» начинали «хлопотать о... превосходных».
Тамара присваивала огромное значение коммерческому нюансу искусства и не лицезрела в судьбе бедной и непонятой художницы никакой романтики. Она стремилась достигнуть денежного фуррора как можно быстрее и сначала карьеры, возможно, даже преднамеренно выбирала наиболее коммерчески нужные жанры. Доход приносили портреты: почти все бриллиантовые браслеты Тамары были куплены конкретно на гонорары от портретов узнаваемых людей. Но была еще одна категория портретов, которая в особенности нравилась собирателям 1920-х годов: портреты юных, современных и весьма сексапильных дам.
Тамара боготворила лоск. Она постоянно к нему стремилась и поклялась наделять им каждую героиню собственных картин, заботясь о их наружном виде не меньше, чем о собственном своем. Подбирала четкий колер помады и теней для век, прорисовывала любой локон и наряжала героинь в одежку престижного кроя.
В особенности прекрасной была кожа: Тамара отточила технику маленьких уверенных мазков, благодаря которой создавался эффект сияющей глянцевой поверхности; кожа ее героинь светилась, как на традиционных полотнах, и их нередко ассоциировали с одалисками Энгра.
Она также постоянно изображала моделей в откровенных сексапильных позах независимо оттого, были ли они одеты либо раздеты: они выглядели как обычные посетительницы кафе и баров, которые заводили любовников, но ценили свою независимость. Подсознательно либо полностью осознанно Тамара стала отрисовывать новейший тип дам — флэпперов либо garçonne, и все происшествия сложились так, что это оказалось коммерчески выгодным.


